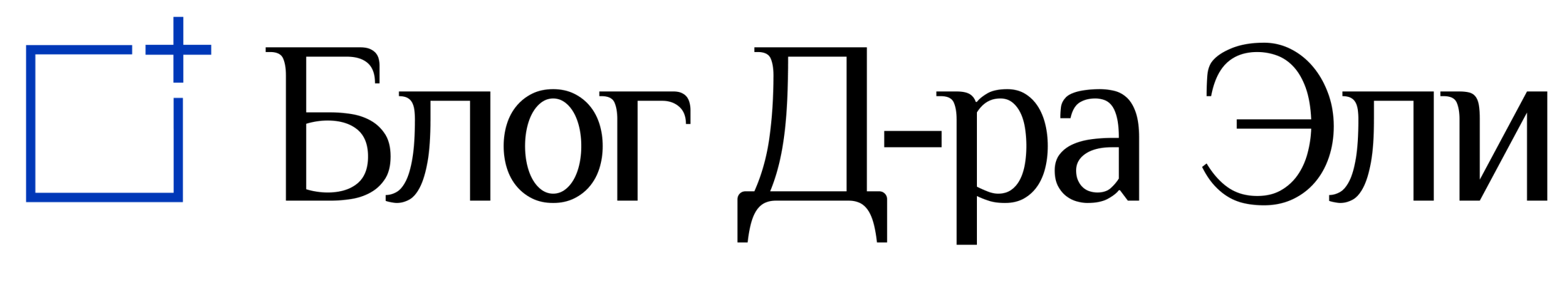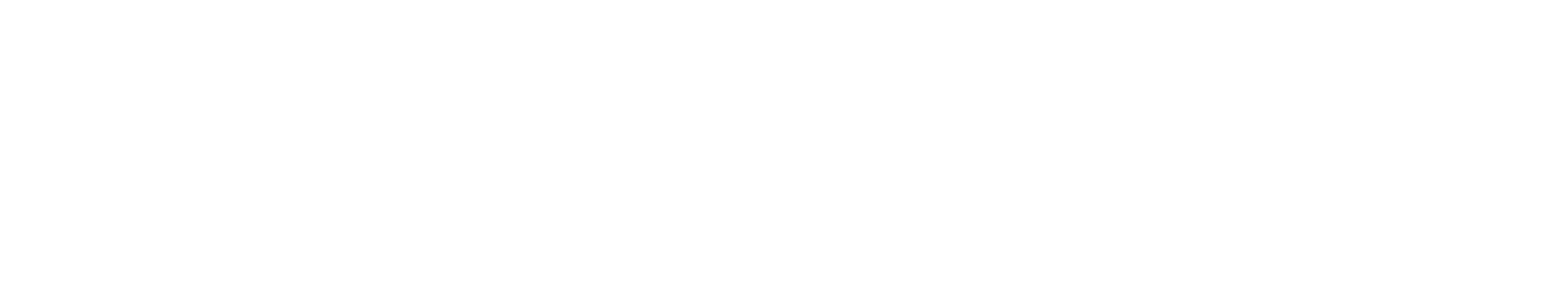Евангелие от Луки использует еврейские имена и богословские образы, чтобы представить Марию как символ «Девы Израиля» — понятия, глубоко укорененного в еврейских Писаниях и традициях. Связывая Марию с ветхозаветными фигурами, такими как Мирьям, и изображая ее как идеальную представительницу народа Божьего, Лука подчеркивает ее еврейскую идентичность и ключевую роль в истории спасения. Эта статья исследует значение еврейских имен, особенно связь Марии с Мирьям, и богословские аспекты ее изображения как Девы Израиля.
Имя Мария, происходящее от еврейского Мирьям (Марьям), несет глубокое значение в Евангелии от Луки. В Ветхом Завете Мирьям, сестра Моисея и Аарона, — пророчица, ставшая свидетелем спасения Израиля Богом (Исх. 15:20–21). Ее вера в Божью спасительную силу, проявленная, когда она повела женщин в радостном танце после перехода через Чермное море, предвосхищает роль Марии в Новом Завете. В Лк. 1:28–30 ангел Гавриил обращается к Марии как к той, что обрела благодать, что перекликается с божественной милостью, оказанной Мирьям во время исхода Израиля. Ответ Марии: «Се, Раба Господня; да будет мне по слову твоему» (Лк. 1:38) — отражает ту же веру и послушание, что и у ее тезки, доверившей Моисея Божьему попечению (Исх. 2:1–10).
Связь между Марией и Мирьям затемняется в английских переводах, где еврейское Мирьям (Мирьям) и греческое Мариам/Мария (Мариам/Мария) передаются непоследовательно. Этот языковой разрыв может скрывать задуманные параллели, поскольку Новый Завет написан на греческом, а Ветхий Завет переведен с еврейского. Признавая Марию как Мирьям, мы видим ее как продолжение пророческой традиции верных еврейских женщин, доверяющих спасительным деяниям Бога. Ее молитва Магнификат (Лк. 1:46–55) (Магнификат) перекликается с песнью Мирьям, прославляющей могущественные дела Бога и Его верность завету с Израилем (Исх. 15:21).
Концепция «Девы Израиля» дополнительно обогащает образ Марии. В еврейских Писаниях Израиль часто изображается как дева, символизирующая чистоту и верность завету (Иер. 31:4; Ам. 5:2; Ис. 37:22). Перевод Септуагинты Исаии 7:14, где еврейское слово «алма» (алма, молодая женщина) передано как «партенос» (партенос, дева), вероятно, отражает эту богословскую традицию. Еврейские переводчики, возможно, видели в «молодой женщине» символ Израиля, чья верность завершается рождением Мессии. Лука использует этот образ, представляя Марию как воплощение Девы Израиля — послушной, верной и избранной для рождения обещанного Спасителя.
Спор вокруг Исаии 7:14, часто используемого в христианской апологетике для подтверждения девственности Марии, становится менее острым в этом свете. Еврейское слово «алма» (алма) обозначает молодую женщину, не обязательно деву, но «партенос» (партенос) в Септуагинте соответствует пророческому изображению Израиля как девы. Использование Лукой этого образа предполагает, что Мария представляет верный остаток Израиля, чье послушание исполняет Божьи заветные обетования. Ее девственность, хотя и значима, вторична по сравнению с ее ролью как символа чистоты и доверия Израиля Богу.
Связь Марии с Давидовым царством усиливает эту символику. Ангел Гавриил возвещает, что Иисус унаследует престол Давида и будет царствовать над домом Иакова вовеки, как сказано: «престол Давида, отца Его… и царству Его не будет конца» (Лк. 1:32–33). Это связывает Марию с мессианскими обетованиями (2 Цар. 7:12–16). Как потомок Давида через Иосифа (Лк. 1:27), Мария становится сосудом, через который исполняется Божий завет с Давидом. Ее роль как Девы Израиля таким образом соединяет Авраамов и Давидов заветы, объединяя прошлое Израиля с его мессианским будущим.
Имена других фигур в повествовании Луки, таких как Елисавета (Элишева, означающее «Мой Бог верен»), подчеркивают эту еврейскую преемственность. Елисавета, подобно ветхозаветной Элишеве, жене Аарона, представляет священническую верность, дополняя пророческую роль Марии. Взаимодействие этих имен — Мирьям и Элишева — вызывает в памяти повествование об исходе, где верные женщины играли ключевые роли в Божьем спасении. Использование Лукой еврейских имен служит богословским маркером, укореняющим Евангелие в заветной истории Израиля.
Встреча Марии с Елисаветой (Лк. 1:39–45) подчеркивает ее роль как Девы Израиля. Исполненное Духом признание Елисаветой Марии как матери Господа и благословенной среди женщин звучит так: «Благословенна Ты между женами» (Лк. 1:42) и «Матерь Господа моего» (Лк. 1:43). Этот момент перекликается с ветхозаветным изображением Израиля как избранного Богом для Его спасительных целей. Магнификат Марии с его отголосками молитвы Анны (1 Цар. 2:1–10) дополнительно связывает ее с традицией Израиля, прославляющей Бога за Его справедливость и милость.
Сцена в яслях в Лк. 2:7 также несет еврейский смысл, усиливая роль Марии как Девы Израиля. Кормушка, расположенная в Вифлееме (Бейт-Лехем, «Дом Хлеба»), символизирует Иисуса как хлеб жизни, как сказано: «хлеба жизни» (Ин. 6:35), что отвечает еврейским ожиданиям мессианского обеспечения. Положив Иисуса в ясли, Мария предвосхищает Его жертвенную роль, связывая ее с пасхальным агнцем и искуплением Израиля. Этот образ изображает Марию как верную мать Мессии, воплощающую надежду Израиля.
Еврейская идентичность Марии как Мирьям и Девы Израиля занимает центральное место в богословском замысле Луки. Ее имя и действия связывают ее с пророческими и заветными традициями Израиля, представляя ее как идеальную ученицу, доверяющую Божьим обетованиям. Через Марию Лука соединяет Ветхий и Новый Заветы, показывая, что рождение Мессии исполняет надежды Израиля, распространяя спасение на все народы. История Марии, укорененная в ее еврейской вере, приглашает читателей видеть в ней образец послушания и доверия Божьему плану спасения.