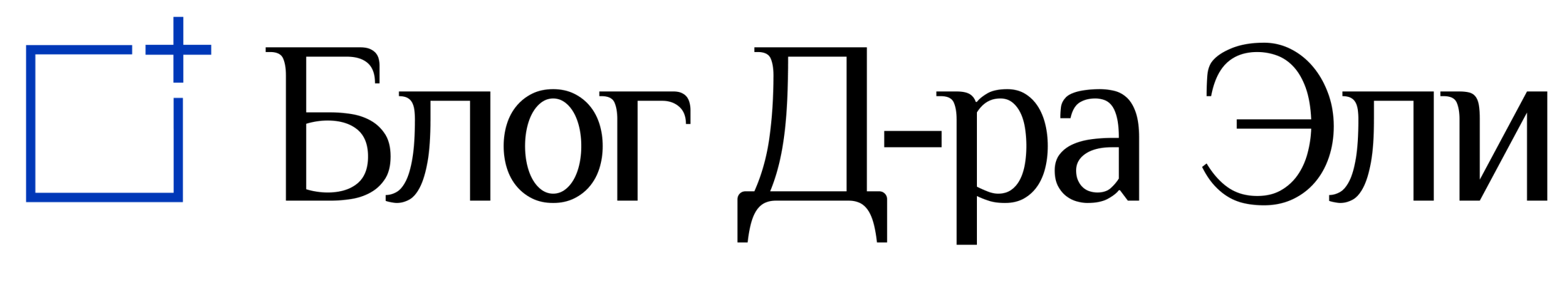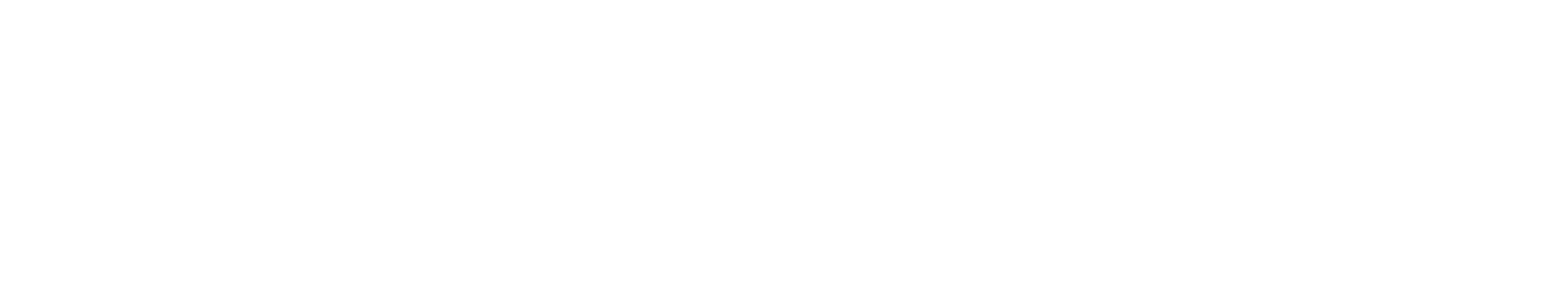Хочу поделиться забавным анекдотом, который рассказал русский еврейский комик Гари Губерман. История разворачивается как диалог между двумя пожилыми друзьями, Абрамом и Хаимом. Абрам, которому 87 лет, решает навестить своего старшего друга Хаима, которому 97.
Абрам: «Хаим, я пришел попрощаться, потому что завтра я покину этот мир. Я прожил долгую и счастливую жизнь, но теперь готов уйти, и это точно случится завтра».
Удивленный уверенностью младшего друга, Хаим высказывает необычную просьбу.
Хаим: «Абрам, у меня к тебе просьба».
Абрам: «Да, Хаим. Что угодно».
Хаим: «Завтра, когда ты уйдешь, ты попадешь в лучшее место, и, возможно, встретишь там Творца, да будет Он благословен. Если Он спросит обо мне, пожалуйста, скажи, что давно меня не видел и понятия не имеешь, где я».
Этот шутливый обмен мыслями побуждает нас задуматься над серьезным вопросом: каково состояние тех, кто ушел из этой жизни, и могут ли они взаимодействовать с теми, кто еще на земле? Для христиан этот вопрос лежит в основе учения о общении святых, которое утверждает, что верующие, будь то на земле или на небесах, остаются едины во Христе и могут поддерживать друг друга через молитву. Эта статья исследует библейские, исторические и богословские основания для обращения к усопшим, включая Марию, Матерь Иисуса, с просьбой о заступничестве. Также рассматриваются распространенные протестантские возражения и привлекаются еврейские традиции для более широкого контекста этой практики, которая дорога католикам, православным, а также некоторым англиканам и лютеранам.
Библейские основания
Основа для понимания состояния усопших начинается с учения Иисуса в Мф. 22:29–32. Когда саддукеи, отрицавшие воскресение, задали Иисусу гипотетический вопрос о браке в загробной жизни, Он ответил: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией… а о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но живых» (Мф. 22:29–32). Цитируя Исх. 3:15, Иисус утверждает, что Авраам, Исаак и Иаков, хотя и умерли физически, живы в присутствии Бога. Этот отрывок устанавливает ключевой богословский принцип: те, кто умер в вере, не мертвы, но живут в общении с Богом. Это понимание лежит в основе учения о общении святых, сформулированного в Апостольском символе веры, который провозглашает веру в «святую вселенскую церковь, общение святых». Исторически эта фраза охватывала как живых верующих, так и тех, кто на небесах, предполагая мистическое единство, преодолевающее физическую смерть.
Книга Евреям дополнительно освещает эту идею, описывая «великое множество свидетелей» (Евр. 12:1, в Синодальном переводе — «облак свидетелей»), окружающих верующих. Этот образ вызывает верных прошлых поколений — таких как Гедеон, Давид и пророки, — которые верой побеждали царства, переносили испытания и теперь наблюдают за продолжающимся бегом живущих на земле (Евр. 11:32–38). Этот отрывок предполагает, что усопшие остаются осведомленными о трудностях живых и вовлечены в них. Если они живы в Божьем присутствии и являются частью этого общения, уместно ли просить их молиться за нас, как мы просим друга на земле? Для многих христиан ответ — да. Логика проста: если я могу попросить собрата-верующего заступиться за меня, почему нельзя обратиться к тому, кто на небесах и ближе к Богу? Эта практика особенно связана с Марией, почитаемой как Матерь Иисуса, чья уникальная роль делает ее могущественной заступницей в католической и православной традициях.
Небесное заступничество в Писании
Писание дает проблески заступнической роли святых на небесах. В Отк. 6:9–10 души мучеников взывают: «Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Отк. 6:10). Эта страстная молитва показывает, что усопшие выступают за справедливость от имени живых. Аналогично, Отк. 5:8 и 8:3–4 изображают небесных существ, приносящих молитвы святых к Богу, предполагая, что усопшие усиливают земные прошения. Эти отрывки поддерживают идею, что святые на небесах не отстранены, а активно участвуют в Божьем плане искупления. Для католиков и православных просьба к Марии или другим святым молиться — это расширение этой реальности, подобное участию в небесном молитвенном собрании, где все верующие, живые и усопшие, объединяются во Христе.
Протестантские возражения и их контекст
Протестантские христиане часто возражают против этой практики, ссылаясь на Втор. 18:10–15, где запрещается вопрошать мертвых через гадания, колдовство или вызывание духов. Однако этот запрет нужно понимать в контексте. Второзаконие осуждает языческие практики, направленные на получение скрытых знаний или манипуляцию духовными силами, как это было в ритуалах соседних народов. Оно не касается просьб о молитвенном заступничестве. Сам Иисус, исполнивший Закон в совершенстве, общался с Моисеем и Илией во время Преображения (Мф. 17:3), показывая, что взаимодействие с усопшими само по себе не греховно. Ключевое различие — в цели: спиритический сеанс ищет запретное знание, тогда как просьба о молитве — это смиренный акт общения. История Саула и волшебницы в 1 Цар. 28:8–15 иллюстрирует это. Грех Саула заключался не просто в обращении к Самуилу, а в стремлении получить стратегические сведения для победы над врагами, движимый страхом и нетерпением, а не доверием к Богу. Напротив, просьба к Марии или святым о молитве соответствует общинной природе христианской веры, где верующие поддерживают друг друга по обе стороны раздела смерти.
Еврейские традиции как контекст
Еврейские традиции предоставляют ценный контекст для этой практики. В раввинистическом иудаизме молитва у могил праведников (киврей цаддиким) — уважаемый обычай. Талмуд повествует, как Халев посещал пещеру патриархов, чтобы попросить предков заступиться за него против злого совета соглядатаев (Сота 34б). Аналогично, Таанит 16а описывает, как евреи молились на кладбищах во время бедствий, веря, что умершие могут просить милости от их имени. Эти практики отражают веру в то, что праведники, даже после смерти, остаются связанными с живыми и могут усиливать их молитвы. Еврейская молитва Махнисей Рахамим просит ангелов передать человеческие мольбы Богу, что параллельно христианским просьбам к святым. Поразительный пример появляется в Иер. 31:15, где Рахиль, давно умершая, плачет об изгнанниках Израиля, и Бог слышит ее. Хотя это может быть поэтическим образом, текст предполагает, что усопшие праведники заботятся о живых и заступаются за них, — веру, которую ранние христиане, вероятно, унаследовали и адаптировали.
Отсутствие явного указания в Писании
Еще одно протестантское возражение заключается в том, что Писание не содержит явного учения о просьбах молитв к усопшим. Хотя прямого повеления нет, это отсутствие не равно запрету. Многие христианские доктрины, такие как Троица, не изложены явно в Писании, но сформировались через богословское осмысление неявных истин. Отмена рабства и предпочтение моногамии также не имеют явных библейских мандатов, но сегодня общеприняты христианами, развитые через траектории Писания. Книги Маккавейские, входящие в католический и православный каноны, дают дополнительную поддержку. В 2 Мак. 15:12–15 Иуда Маккавей видит видение, где Иеремия молится за Израиль, подчеркивая его заступническую роль. Критики, утверждающие, что эта практика небиблейская, часто имеют в виду ее отсутствие в протестантском каноне, исключающем эти книги. Однако эти тексты были частью раннего христианского канона, включены в Септуагинту и утверждены соборами, такими как Римский (382) и Тридентский (1546). Ранние протестантские Библии, включая перевод Лютера и версию Короля Иакова 1611 года, содержали эти книги, часто как «полезное» чтение, пока они не были исключены в 1825 году Британским иностранным библейским обществом.
Притча о Лазаре и богатом
Притча о Лазаре и богаче (Лк. 16:19–31) предлагает дополнительное понимание. В этой истории богач в аду просит Авраама послать Лазаря помочь ему или предупредить его братьев. Хотя главный урок притчи подчеркивает достаточность Божьего Слова (Моисея и пророков), она отражает еврейское культурное предположение, что к усопшим можно обращаться с просьбами. Это говорит о том, что аудитория Иисуса была знакома с такими идеями, даже если притча прямо не одобряет эту практику. В сочетании с изображением молитв святых в Откровении и еврейскими традициями возникает убедительный аргумент в пользу законности обращения к усопшим, включая Марию, с просьбой о заступничестве.
Христос как единственный посредник
Последнее возражение касается роли Христа как единственного посредника (1 Тим. 2:5). Однако заступническая молитва не подрывает этого. В 1 Тим. 2:1–4 Павел призывает верующих молиться друг за друга, называя это «добрым и угодным» Богу (1 Тим. 2:3). Если земное заступничество допустимо, то и небесное также, поскольку оба опираются на посредничество Христа. Просить Марию или святых молиться — это не обход Иисуса, а объединение с ними в поиске Его благодати. Уникальная роль Марии как матери Иисуса делает ее особенно могущественной заступницей, почитаемой в традициях, видящих в ней новую Рахиль, плачущую и молящуюся за Божий народ.
Заключение
Практика обращения к Марии и святым с просьбой о молитве основана на библейском утверждении, что усопшие живы в Боге, активно молясь как часть общения святых. Еврейские традиции, ранние христианские символы веры и библейские проблески небесного заступничества поддерживают эту точку зрения. Возражения, основанные на Второзаконии, отсутствии явного учения или посредничестве Христа, разрешаются различением между оккультными практиками и молитвенными просьбами, признанием неявных библейских траекторий и подтверждением уникальной роли Христа. Как шутливый диалог Абрама и Хаима, общение святых приглашает нас видеть усопших как партнеров в молитве, объединенных в любви Христа.